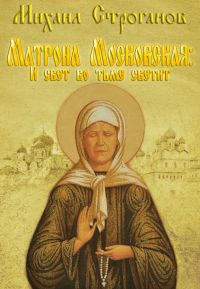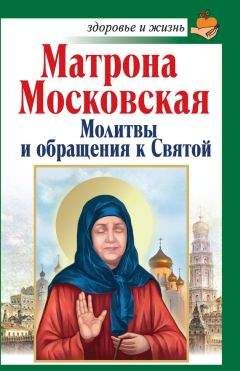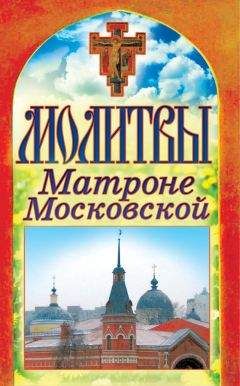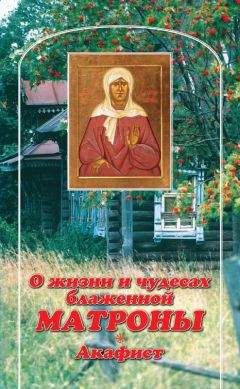С. С. Аверинцев - С. С. Аверинцев Поэты
Тут же заметим, что честертоновское видение вещей сплошь да рядом бывает вызывающе неверным в конкретных частностях и неожиданно верным, даже точным, в том, что касается общих перспектив, общих пропорций. Это как с цитатами из поэтов, которые Честертон принципиально приводил в своих книгах по памяти, конечно, нещадно их перевирая, но строя возле них неплохое толкование. Что там война — все на свете становилось в его руках метафорой: например, социология и политическая экономия. Специалисты скажут, что это дилетантская социология и детская политическая экономия. Зато выразившееся в них представление о человеке — здравое и чистое. Любая тема — предлог, чтобы еще, и еще, и еще раз поговорить о самом главном: о том, ради чего люди живут и остаются людьми, в чем основа, неотчуждаемое ядро человеческого достоинства. Идеализированное средневековье и самодельная утопия на будущее, на скорую руку слепленный детективный сюжет и громогласные риторические периоды статей — разнообразные способы подступиться к этому главному, сообщить ему наглядность. Подход Честертона — аллегорический, басенный, и он оправдан тем, что мораль басни вправду волнует его. Неистощимый, но немного приедающийся поток фигур мысли и фигур речи, блестки слога, как поблескивание детской игрушки, — и после всего этого шума одна или две фразы, которые входят в наше сердце. Все — ради них и только ради них.
*****Свою жизнь Честертон описал в «Автобиографии» как исключительно счастливую. Если ему верить, у него были самые хорошие на свете родители — особенно отец; самые привлекательные друзья, которые только могут быть; а жена его Френсис — совершенство превыше всяких похвал. Ее он всю жизнь воспевал в таких словах, каких женщины давно не слышали; его стихи о ней не просто влюбленные — чувственный пыл до конца отступает перед смиренным восхищением. «Ты видел ее улыбку — о душа, будь достойной! — обращается он к себе. — Ты видел ее слезы — о сердце, будь чистым!..» Старинный английский поэт сказал своей возлюбленной, что любил бы ее меньше, если бы не любил честь еще больше. Но здесь случай, когда женщину любят той же самой любовью, которой любят честь, когда в ней видят воплощение чести, явление чести в зримом облике. И каждая радость — на всю жизнь. Тепло детства, тепло родительского дома, вкус к игре и мальчишеское чувство справедливости никуда не уходят, они остаются с Честертоном, давая его жизни меру, направление и смысл. Романтическая любовь не улетучивается — после долгой супружеской жизни она сильнее, чем была до свадьбы. В реальном опыте все оказывается еще более непостижимым, чем в юношеских фантазиях. Человек стареет, но радость не стареет. «И все становится новым, хотя я становлюсь старым, хотя я становлюсь старым и умираю».
Мы сказали — если ему верить; а верить ли ему?
Когда вопрос задан так, ответ на него может быть только утвердительным. Тому, кто не верит, что радость, благодарность и верность Честертона человечески подлинны, лучше не терять времени на чтение его книг, а заняться чем–нибудь другим. Вопервых, книги его не таковы, чтобы изучать их исключительно ради литературного интереса; а во–вторых, если каждый из нас, живущих, натолкнувшись в разговоре на обидное недоверие, имеет право оборвать такой разговор, красиво ли пользоваться тем, что умерший писатель лишен возможности сделать то же самое и показать неуважительному читателю спину? Реальных оснований подозревать Честертона в том, что он рассказал нам о своей жизни вместо правды приятную ложь, не существует; а кто обвиняет без оснований, клеветник. Кстати, другими источниками в общем подтверждается нарисованная в «Автобиографии» картина. Нужно быть циником, потерявшим рассудок, чтобы утверждать или, еще того хуже, намекать, будто таких здравых и чистых отношений в родительском доме, в дружеском кругу, в супружестве не может быть, потому что их быть не может. Это не только противно, это непозволительно глупо. Циника следует пожалеть, ради его же блага одернуть — и позабыть о нем.
С другой стороны, свойство жизни Честертона быть счастливой — это не такой факт, который можно принять к сведению и приобщить к делу наравне, скажем, с датами рождения и смерти. Это вообще не вопрос факта, а вопрос смысла, и решается он не «объективно», то есть не вне субъекта, а в субъекте и при его, субъекта, активном сотрудничестве. Ведь жизнь как таковая дает вовсе не счастье, а лишь условия для счастья; одновременно она дает и другое — достаточно благовидных предлогов, ссылаясь на которые мы можем уклониться от благодарности судьбе и людям, а значит, от счастья. Благодарность — это самое сердце счастья; вычтите из счастья благодарность, и что останется? — всего–навсего благоприятные обстоятельства, не более того. А всерьез поблагодарить — дело поистине серьезное, и кто знает людей, знает, что оно дается нелегко. Последнее решение, таким образом, положено в руки самого человека: либо он сумеет, что надо, простить — именно простить, а не просто проглотить обиду, — не забудет, разумеется, и сам попросить прощения, и в акте благодарности примет и признает свое счастье своим умом и волей; либо счастье будет разрушено вместе с благодарностью, и говорить тогда не о чем. А потому, если Честертон описывает свою жизнь как счастливую, мы куда больше узнаем о нем самом, чем о его жизни.
В ранних стихах он выражал потребность поблагодарить отдельно за каждый камень на дне ручья, за каждый лист на дереве и за каждую травинку на лугу. В поздней «Автобиографии» он сделал вещь более нешуточную — поблагодарил отдельно за каждого встреченного человека. Такова его философия счастья. Это именно философия, а не просто расположение души; и важно понять, чему она противостоит.
Есть ходячее сочетание слов: «право на счастье». Оно восходит к идеологии века руссоизма; в политическом контексте, скажем, американской Декларации независимости оно имеет четкий смысл, против которого Честертон, во всяком случае, не стал бы возражать. Но вне контекста формула становится опасной. Человек и впрямь склонен расценивать счастье как причитающееся ему право, как должок, который ему все никак не удосужатся выплатить. Целая жизнь может быть загублена попыткой взыскать счастье с людей и судьбы, вести об этом недоданном счастье тяжбу и докучать жалобами небесам и земле. Но счастье нельзя получить по векселю, счастье получают только в подарок. Его незаслуженность и неожиданность — непременные свойства; его могло бы не быть, нас самих могло бы не быть. Кто из нас, спрашивал Честертон, достоин посмотреть на простой одуванчик?
* * *В жизни Честертона большое место принадлежало стихии спора. Порой хочется сказать — чересчур большое. Спор провоцирует говорить шумно, с вызовом, с нажимом и эмфазой, с утрировкой акцентов. Кто поддается азарту спора, того, как известно, «заносит» — с Честертоном такое случалось нередко.
Конечно, он нашел бы, что возразить (и так получился бы еще один спор — о споре). Мы даже можем примерно представить себе его доводы. Он указал бы на то, что сама атмосфера спора очищает те самые страсти, которые развязывает, — конечно, при условии, что это честный спор, бескровный рыцарский поединок, не допускающий и тени ссоры с оппонентом. «Я ненавижу ссору, — говорил он, — потому что это помеха спору». Если в споре и повышают голос, зато ни одно слово не падает в почтительную тишину, никто не смеет вещать в тоне оракула, ибо все, что будет сказано, заранее оспорено; и в этом демократизм спора. Лучше ярость, чем безразличие к своим и чужим убеждениям, и лучше любая резкость, чем тихая гордыня, ускользающая от спора в собственный эгоцентрический мир, с улыбкой любующаяся собой в зеркале. Резкость идет к мужскому товариществу, мужской дружбе, которых Честертон не мыслил себе без спора.
Друзья Честертона были великими спорщиками. Здесь нужно назвать двух человек: младшего брата Сесила и писателя Джозефа Илери Беллока. Пожалуй, для них обоих спор был более органичной страстью, чем для Честертона. Общей чертой всех троих было влечение к твердому «догмату», к отчетливо очерченному кредо — в пику расплывчатому либерализму, уклоняющемуся от выяснения собственной философии. Однако тем двоим недоставало честертоновского великодушия, а равно честертоновской мягкости и поэзии. Они были куда жестче, не без ехидства, отчасти возведенного в принцип, в манеру вести себя и высказываться. Честертона они толкали в направлении сатиры, чуждом его темпераменту; впрочем, творческая личность брала свое, и сатирические мотивы сами собой преобразовывались под руками писателя, оборачиваясь в лучшем случае таинственной притчей, в худшем — веселым дурачеством.
Сесил в качестве журналиста занимался преимущественно тем, что кого–то разоблачал и выводил на чистую воду. Сейчас уже невозможно разобраться, какая доля справедливости присутствовала в его разоблачениях. В гражданском мужестве ему не откажешь, потому что задирал он людей весьма влиятельных; однажды ему даже грозило тюремное заключение за диффамацию. Но черты беспокойного демагога с антисемитским акцентом у него тоже были. Гилберт брата обожал, видел в нем правдолюбца, почти мученика, и после смерти Сесила во французском госпитале такое отношение естественным образом усилилось. Его влиянием порождены кое–какие пассажи, отмеченные не свойственной Честертону агрессивностью.